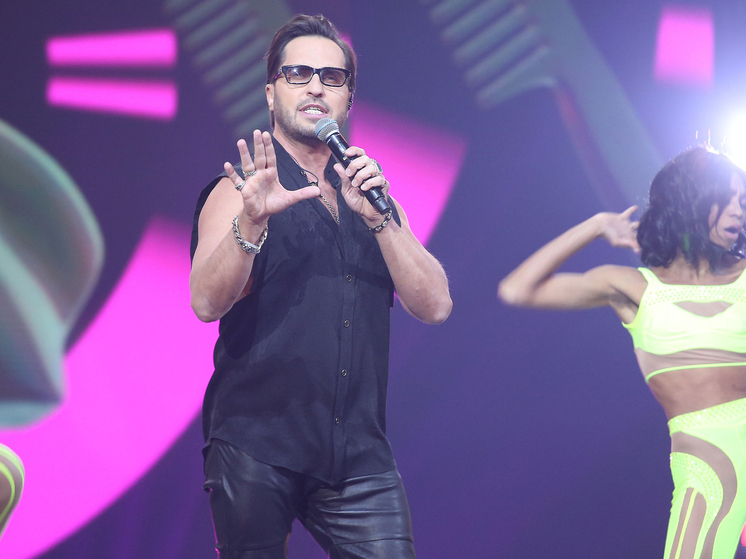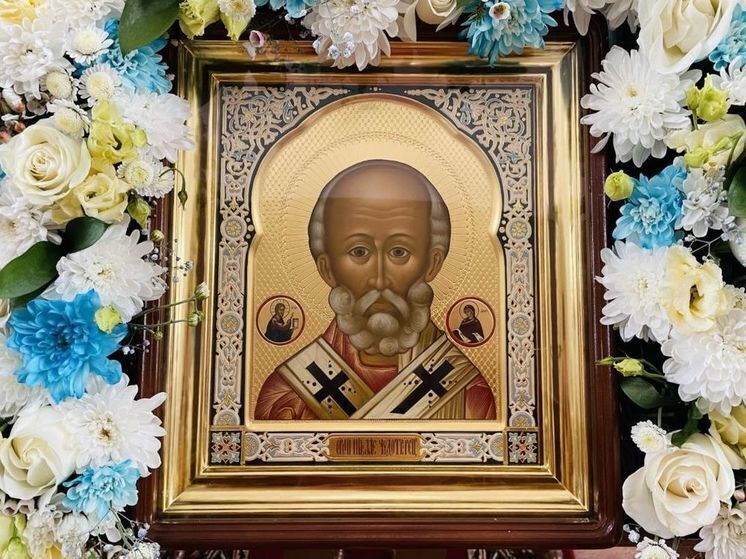Сюжет крайне прост. Ну, это если подобный эпитет вообще применим к Гоголю. Молодежный театр взялся за «Вия». Сразу скажем, без современного подхода вряд ли бы обошлось – видеографика, звуковое оформление, да и сценография на грани фола. Однако все срослось – скептические ожидания не оправдались. Вот, представьте: едете вы на поезде, а тут – остановка не пойми где. А поезд ушел. И вы в самой что ни на есть глуши – в забытом богом и властями поселке. Кто там главный? Тот, у кого пистолет. В нашем случае мент. Именно мент, а не полицейский. И у этого самого мента вдруг убили дщерь. Любимую. С историей. А дальше начинает развиваться картина по Гоголю – на тебе, в поезде-то ехали семинаристы-оболтусы, один из них девушку и убил, видимо, нечаянно, хотя в спектакле это не разъясняется. А дальше все почти как у Николая Васильевича – три дня отпевания покойницы в церкви иначе папаша... Ой, наверное, лучше и не говорить о методах лихих 90-х.
Что о сценографии – зал традиционно уже для Молодежки перевернут вверх тормашками – там, где был зритель, теперь сцена – балкон – слишком артистическое пространство, чтобы его не обыграть. Трансформирующиеся элементы декораций – вообще идеальный для камерного театра ход. Так что будьте готовы к «зеркальному» восприятию пространства.
Украины – ноль. Разве что некоторые элементы одежды актрис. Правда, Незалежная все-таки узнается в некоторых образах: семинарист очень уж похож на Хому Брута, хотя и зовут его по-достоевски Родионом, путейщица – вылитая гоголевская Солоха, даже готесса – этакое воплощение творящейся ныне в стране бесовщины... А остальные типажи – самые что ни на есть характерные для наших широт. Такие, наверное, есть везде.
Вся гоголевщина склеена с современностью посредством образцов поп-культуры, что, впрочем, спектакль никак не обедняет – удобно выбранный плэй-лист только добавляет переживательности в происходящее на сцене.
В целом, деревня «Нежить», где происходит действо, – вовсе не то, о чем говорит ее название. Но для семинариста, приехавшего из столичных краев, она, конечно, полностью оправдывает свое имя.
Есть ли здесь мистика? Безусловно. Все мы к ней склонны. Попытка объяснить все особой ментальностью? Возможно. Так у нас такая ментальность везде.
Спектакль понравился. Ну очень понравился. Но вопросы-то остались: где Гоголь, где «тиха украинская ночь», где Вий, в конце концов? С этим мы и атаковали после премьеры режиссера спектакля Максима Соколова на предмет открыть же в конце концов нам веки...
– Показалось, что в спектакле больше Гоголя, чем... в самом Гоголе. Ну, с Николаем Васильевичем-то как раз все более менее понятно – и сюжеты его повестей, и жизнь, и даже смерть – сплошная мистика. А как вас-то занесло в эту сумрачную гоголевщину? Какая была цель: напугать, заставить думать что-то в стиле memento mori или же все было задумано как мрачное шоу в духе Тима Бёртона?
– Это ни в коем случае не шоу. Мне кажется, что самый главный вопрос, который ставится перед зрителем, – во что верит современный человек? Все люди верят в разное, но мне кажется, что все хотели бы обрести эту веру. Этот спектакль – тоска по вере. Во времена Гоголя с этим попроще было – все знали, что там, за гранью жизни, что-то есть. Небеса не были пустыми, как в XХ веке.
– Кстати, спектакль, на мой взгляд, полон аллюзий на различные голливудские штампы. И даже иногда не голливудские, а отечественные. Вот, к примеру, «Поворот не туда», «Звонок», когда из световой будки вылезает паночка с опущенными на лицо волосами... А ваш мент, который олицетворяет гоголевского пана, – когда он появляется на сцене, пьяное его страдание, весь облик... – Это же какой-то «Груз-200» Балабанова.
– Честно говоря, не смотрел «Груз-200», но теперь обязательно посмотрю. Я думаю, что эта выписанная современность, она достаточно документальна, поэтому с нее мы и начинаем. А электричка, домик путейщицы выдуманы именно для того, чтобы сразу ввести связь с современностью. А уже потом выясняется, что она ведьма. А кто акая ведьма? Гоголь еще определил: все бабы – ведьмы. Но в то же время, если женщина работает на такой работе, она может и в молодости выглядеть как старуха... Водка ли ее превращает в старуху или она вдруг из-за недостатка любви принимается колдовать...
– Я как раз о том, что существует стойкий голливудский штамп – едут люди, заблудились, заехали в глушь, где начинает происходить всякая чертовщина...
– Конечно, сходство есть, но я бы не хотел, чтобы зритель делал какие-то параллели с Голливудом. Ведь кроме кошмарика в спектакле рассказывается история людей, волею судеб оказавшихся в этой забытой богом деревеньке, за каждым из которых свой мир...
– А вот мент-самодур – это же чисто балабановский типаж...
– Да, это страшный человек. Думаю, никто не хотел бы оказаться с таким на его территории.
– Получается, он – главная нечисть?
– Да, наверное. Ведь самое страшное делает не Вий – самое страшное делают люди, и бояться стоит реальных людей, а не какую-то нечисть. Получается, что Вий в нем. Ведь когда из главного героя вылетает душа, ее место в пустом теле занимает Вий. Неспроста на афише изображена разделанная свиная туша, поскольку человек без души – это просто кусок мяса.
– И все-таки на призыв паночки «Позовите Вия» Вий не появляется, приходит ощущение, что он уже здесь. Кто он? Мент в фуражке или же он поселился в душе семинариста?
– Но ведь семинарист убил ведьму, поэтому она и позвала его на отпевание. Значит, Вий уже в душе убийцы. Я оставляю зрителю самому догадаться, где он.
– Так здесь уже получается даже не гоголевщина – достоевщина. Недаром же, наверное, главного героя, в отличие от Хомы Брута, зовут Родионом.
– Конечно, что-то в главном герое есть и от Раскольникова – он ведь тоже убил. Современный чеовек очень циничен. Я посмотрел на проповеди некоторых современных батюшек, выпускников семинарии, – я бы к ним не пошел.
– Это камень в огород современной церкви?
– Ни в коем случае. Все ведь разные. Вот, мне говорили, что на премьеру придет батюшка ваш один, который довольно резок в суждениях. Ведь есть мнение, что православных в России всего процентов пять. Остальные – те, кто отождествляет себя с православными, но не являются ими: не соблюдают пост, заповеди...
– Кстати, в последнее время прогремел ряд скандалов, связанных именно с тем, что представители Русской православной церкви не принимали некоторые театральные постановки или иные культурные мероприятия.
– Это «Вий». Что еще ожидать? Церковь к этому произведению настроена отрицательно – там ведь нечистая сила... Но я стараюсь ставить спектакли так, чтобы не думать о мнении, которое может о них сложиться. Тем более, «Вий» – это отдельная пьеса. В этом плане мне очень понравилось работать с драматургом Валерией Бородиной.
– А вы специально стремились к тому, чтобы каждый образ в этом спектакле был собирательным: гопник, юродивый, деревнская «Солоха», самовластительный мент – хозяин поселка, девочка-гот, которая в теме...
– Конечно, все это мы прорабатывали с драматургом. Это должна была быть узнаваемая деревня. Каждый использовал какой-то свой опыт. Не должно было случиться так, чтобы какие-то типажи оказались фальшивыми, которых не бывает или которые были бы неузнаваемы. Эти же типажи ведь есть и у Гоголя, естественно, со ссылкой на реалии его времени.
– Музыка современная в спектакле несет какую-то функцию или она выбиралась просто под стилистику?
– Конечно, музыку выбирали «тематическую. Вот, к примеру, «Нюркина песня» Янки Дягилевой – она же идеально, на мой взгляд, отражает настроение сцены. Сознательно мы попытались избежать украинского колорита, который присутствует у Гоголя, чтобы получилось не какими-то вставными номерами, а органично вписались в общую тему.
– Как вы сами относитесь к такой непростой теме, как гоголевская мистика?
– Мне впервые за все время на репетиции перед спектаклем стало страшно. Подумал было о каком-то счастливом финале. Но нельзя – не так все было. Хотя я не верю в нечистую силу.